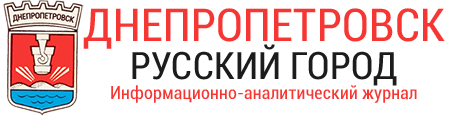Андрей Болдин
 …А началось всё в ночь с 24 на 25 марта 2014 года. В городе Ровно возле кафе «Три крася» был убит Александр Музычко, более известный, как Сашко Билый. Незадолго до смерти этот сиплый человек стал весьма знаменит. Его большое и круглое, как кочан капусты, лицо узнавали все, кто смотрел тогда телевизор. Но что телевизор! Музычко стал звездой Интернета. Если вы не знаете этого грозного имени, наберите его в поисковой строке, и вы увидите, как этот могучий муж кощунственно таскает за галстук представителя правосудия, как воинственно потрясает он ружием над головами безмолвствующих местечковых заседателей, как пламенно шлет проклятия жидам и москалям во имя спасения родины и революции. Вы увидите, как хорош был Сашко в молодости, когда носил светлорыжую бородку и зеленую ленту пророка на своей военной кепке с кокардой дудаевской армии, но широкое славянское лицо все равно выдавало в этом воине Аллаха веселого парня с Украины, а если быть точным – из Перми, где он, кажется, родился.
…А началось всё в ночь с 24 на 25 марта 2014 года. В городе Ровно возле кафе «Три крася» был убит Александр Музычко, более известный, как Сашко Билый. Незадолго до смерти этот сиплый человек стал весьма знаменит. Его большое и круглое, как кочан капусты, лицо узнавали все, кто смотрел тогда телевизор. Но что телевизор! Музычко стал звездой Интернета. Если вы не знаете этого грозного имени, наберите его в поисковой строке, и вы увидите, как этот могучий муж кощунственно таскает за галстук представителя правосудия, как воинственно потрясает он ружием над головами безмолвствующих местечковых заседателей, как пламенно шлет проклятия жидам и москалям во имя спасения родины и революции. Вы увидите, как хорош был Сашко в молодости, когда носил светлорыжую бородку и зеленую ленту пророка на своей военной кепке с кокардой дудаевской армии, но широкое славянское лицо все равно выдавало в этом воине Аллаха веселого парня с Украины, а если быть точным – из Перми, где он, кажется, родился.
Широко жил Сашко! Не совсем для славы, не только для денег – а ради удали казацкой, ради неньки Украины, которая ще не вмерла, но уже смертельно заболела, и только чудо может ее спасти от таких, как он, хотя о покойниках – aut bene, aut nihil. Дай Бог пережить ей все грядущие Майданы, помоги ей Спаситель избавиться от демонов больших и малых!
Пули, которые в ту весеннюю ночь настигли одного из мелких бесов киевской революции, искали его давно. Про эту смерть много писали. Строили догадки. Усматривали кровавую руку Кремля. Катили бочку на Министерство внутренних дел Украины – и оказалось, катили вполне обоснованно. По информации украинского МВД, операцию проводили сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и спецподразделение «Сокол». Убили, якобы, случайно. Хотели просто задержать – не получилось… По другой официальной версии Сашко убил себя сам. Разумеется, тоже случайно.
Как бы то ни было, истинного убийцу Сашко никто никогда не нашел и не найдет. Потому что тайна смерти этого человека покоится за пределами земных человеческих дел.
Когда 25 марта я прочитал об убийстве в Ровно, то неожиданно для самого себя расстроился. Ненависть, которую я искренно испытывал к этому человеку, как будто испарилась, оставив едва заметный влажный след в области сердца. Я еще раз просмотрел на подвиги покойного, но вместо лютой ярости испытал сожаление. Не потому что эта смерть дала еще одного мученика местным погромщикам, а потому что мое слабенькое сердце не умеет ненавидеть долго, оно способно мгновенно простить даже такого громилу и хама, если этого хама взяли и шлепнули, если он лежит, как мешок, и не может уже ни засмеяться, ни выругаться, ни дать в морду.
Но еще сутки назад это самое сердце колотилось с невероятной быстротой от негодования, вызванного безобразными выходками пещерного человека с автоматом Калашникова. Помню, я написал Базилио, другу детства и вечному оппоненту в политических спорах: «На месте Путина я давно послал к нему убийц. Это же стервятник, террорист! Ведь он наших в Чечне убивал!». Да, эта смерть нам (то есть – им, кремлевским демонам, конечно, а не нам, простым обывателям) была не нужна – наоборот, выгодно было бы подольше держать такое пугало живым, показывая всему миру смешное и страшное мурло галицийского национализма. Но чисто из принципа… И чтобы показать, какие у нас (у них, конечно, не у нас) длинные руки. Стрельнули бы и всё. Словом, я испытал искреннее желание узнать о скорой и насильственной смерти этого типа. Так я впервые в жизни пожелал смерти другому человеку (заношу этот факт в протокол!). А потом, когда увидел тело, лежащее на первой весенней траве – устыдился и раскаялся. Никогда нельзя желать человеку смерти. Даже такому. Теперь я это знаю.
*************************************************************************************
…Мы взяли купе, дорога была приятной. Я вообще люблю поезда. В поездах хорошо спится – под стук колес, под скрип вагона. И естся в них хорошо – холодная курица в фольге, вареные яйца, бутерброды с сомлевшим сыром, помидоры, посыпанные солью из спичечного коробка. Я люблю запахи поезда дальнего следования. Наверное, это из детства, когда ездили с родителями на Черное море, в Крым. Тогда никого не волновало, что волшебная Таврида – это часть Украины – вернее, УССР. А во время нашего с Ярославой путешествия – только и разговоров было, что о присоединении сказочного полуострова к России, о дальнейшей судьбе клочка земли, которую официальные СМИ именовали хорошо забытым старым словом Новороссия. Спорили наши соседи по купе – отставной военный и молодой журналист, похожий на Раскольникова. Особую горячность дебатам придавал армянский коньяк. Они предложили присоединиться к дегустации, но я отказался, сделав вид, что равнодушен к крепкому алкоголю. Признаться, я устал от гремевших вокруг политических споров, к тому же мне больно было смотреть на то, как пьется без моего участия прекрасный пятизвездный нектар. На Ярославу вагонные дискуссии наводили сон, и она отлеживалась на верхней полке, заткнув уши кусочками ваты. Я ушел бродить по вагонам. Тайком покурил в тамбуре – стрельнул сигаретку у пьяного лейтенанта, который доверительным тоном сообщил, что командир его части – сволочь и поинтересовался, был ли я в армии. Узнав, что я служил на флоте, лейтенант затянул «Варяга». От дальнейшего общения с юным офицером меня спасло появление его сослуживцев, тоже заявившихся на перекур. Под шумок я улизнул и продолжил путешествие по вагонам….
*******************************************************************************
…Однажды я услышал, как в разговоре со своим лепшим корешем Атасовым Лосяк выказал желание поехать в Донбасс – «поддержать антифашистов». Учитывая тот факт, что каждый день на востоке Украины гибли десятки человек, это была отличная мысль. Я представил себе, как моего благодетеля прошивает шальная пуля или накрывает из миномета. Воображение мгновенно изобразило фотографию развороченного автомобиля и газетный заголовок: «Петербургский депутат убит под Славянском».
Но увы – это были только слова. Никуда Лосяк ехать не собирался. Будучи записным патриотом, он вряд ли бы променял кабинет в Мариинском дворце на горящий блокпост.
Но смерть настигла его именно в кабинете. Вот как бывает…
В сентябре произошло событие, которое еще больше сблизило нас с женой.
У Ярославы был младший брат. В том, что он именно был, лично у меня сомнений нет. Хотя моя теща Серафима Аркадьевна до сих пор верит в его возвращение.
Вот они — на старом черно-белом снимке: белокурая девочка с косичками, рядом на качельках – напряженно смотрящий в объектив карапуз в кружевном слюнявчике. Въедливый, вопрошающий взгляд, сжатые губки. Что он пытается разглядеть? Свою судьбу?
Признаться, меня Алексей не любил. Чем была вызвана эта нелюбовь – братской ревностью, завистью, скверным характером или тем необъяснимым и таинственным, что порождает иррациональную неприязнь человека к человеку, я не знаю. Не могу утверждать, что это чувство было взаимным. Но знать о нем было неприятно. Да и сам Алексей был мне неприятен – хотя о покойниках, как говорится…
Алехан – так называла ироничная Ярослава своего брата, видимо, намекая на былинный образ старшего из братьев Орловых — был чахоточного вида высокий и щуплый юноша с еще не увядшим букетом подростковых комплексов. Он только что закончил философский факультет «большого» университета и деятельно готовился продолжить свой жизненный путь. Получив, как и я, бесполезное образование, Алехан успел поработать официантом, экспедитором, развозчиком пиццы и продавцом в магазине погребальных товаров. Отовсюду моего шурина гнал его неуживчивый характер. Доведенные до абсурда дотошность и принципиальность изрядно осложняли его жизнь, а заодно и жизнь его близких родственников.
У него была девушка, о которой невозможно сказать что-то определенное. Человек без свойств. Неулыбчивая молчунья с вечно утомленным видом. Отвернешься – и тут же забудешь, как она выглядит. Они с Алеханом были вполне гармоничной парой – сидят рядом, оба молчат и хмурятся. Пожалуй, она была единственным человеком, который его понимал. На свадебном пиру оба они куксились и смотрели в мою сторону так, как будто я задолжал им миллион. Произнося поздравительную речь, мой новоиспеченный шурин не преминул заметить, как сказочно повезло жениху и призвал его – то есть меня быть достойным такого подарка судьбы.
О, младший брат моей жены был большой оригинал. В нем с детства сидел бес противоречия, и этот бес взрослел вместе с ним. По рассказам Ярославы, Алексей был в вечной оппозиции ко всему, что его окружало – к родителям, к сестре, к учителям и одноклассникам, к соседям и просто случайным прохожим, не говоря уже о государстве, все телодвижения которого вызывали у него недоуменно-брезгливое раздражение. Его оппозиционность распространялась даже на собственное тело, с которым он все время воевал – я с отвращением вспоминаю его обглоданные пальцы, сорванные прыщи, расчесанную до крови кожу. Если Алехан заболевал, а болел он часто, ничто не могло заставить его лечиться — хотя бы медом.
Иметь дело с Алеханом было великим испытанием. Однажды мы поехали с ним к теще передвигать мебель (сама по себе мебель, надо полагать, была ни при чем – Серафима Аркадьевна переживала из-за прохладцы в наших с Алеханом отношениях и действовала в соответствии с тезисом кота Матроскина: «Совместный труд объединяет»). Мне было бы гораздо легче самому сделать всю работу, чем делить ее с ним. Договориться, каким образом следует перемещать сервант, оказалось невозможным. Мой шурин был органически не способен на компромисс. Если бы не моя уступчивость, тещины шкафы и буфеты так и осталась бы на своих местах.
Даже просто разговаривать с ним было сущим мучением. Он имел дурацкую манеру отвечать вопросом на вопрос и подвергал дотошному анализу едва ли не каждое произнесенное в его присутствии слово, извлекая из него весьма неожиданный смысл. Когда во время семейного застолья я неосторожно заявил, что не люблю шпроты, он долго рассуждал на эту тему и сделал вывод, что это ложное утверждение, а мой отказ от употребления в пищу шпрот (в данном случае – прибалтийских) свидетельствует о моих антизападных взглядах и лояльности к действующей российской власти. При этом он был убийственно серьезен.
Слово «конформист» было в его словаре словом ругательным. Не удивлюсь, если так он называл меня за глаза. Впрочем, этим словцом он припечатывал едва ли не каждого, кто его окружал.
В сентябре Алехан сделался молчалив, а в глазах его появился не свойственный им блеск. Его нервозность и суетливость куда-то схлынули. Какая-то мысль полностью овладела им.
— Алеша очень переменился, — тревожно говорила Ярослава, не ожидавшая от этой перемены ничего хорошего.
Когда он заехал к нам однажды в Сиверскую — якобы по какому-то делу, не умеющие лгать глаза выдали его. Он приехал проститься с сестрой.
— Ты что, куда-то едешь? – спросила Ярослава, разливая чай на веранде. – Только не ври.
— В геологическую экспедицию. На Памир, — ответил он.
— Это лучше, чем белые тапочки продавать, — съязвила старшая сестра.
Я обо всем догадался, но виду не подал – наверное, не хотел расстраивать жену.
С этого дня я стал относиться к Алексею с уважением. Отправиться на войну – это поступок. Тем более для такого, как Алехан. Представить его с автоматом в руках было трудно. И уж совершенно невозможно – стреляющим в человека. При всей своей мизантропической желчности он едва ли мог участвовать в насилии – пусть даже освященном высокими гуманистическими идеалами. Я был уверен, что Алехана задействовали на каких-нибудь не слишком опасных вспомогательных работах – подвоз боеприпасов, медикаментов, помощь раненым или что-нибудь подобное.
Я догадывался, что его решение – очередной протест против обывательского гомеостаза, в котором мы все пребываем. Но всей глубины этого протеста я тогда не понимал.
Он несколько раз звонил Ярославе со своего Памира, и даже передавал мне привет.
Я помню, мы сидели в гостях у моей интеллигентной тещи, в ее уютной квартирке в уютном осеннем Павловске, и обсуждали литературные новинки, когда мобильник Серафимы Аркадьевны залил комнату рахманиновским плеском.
— Алешка! – весело вскрикнула теща, посмотрев на экранчик телефона.
Но вместо тонкого мальчишеского голоса сына она услышала хриплый бас, гудевший на фоне сплошной автоматной трескотни. Обладатель баса говорил отрывисто, отделяя каждую рубленую фразу непечатными междометиями.
— Але! Не знаю, как вас зовут, на. Звонят вам с Донбасса, мля, — бодро, по-военному начал бас с отчетливым южно-русским акцентом. — Группа разведчиков, среди которых был ваш сын, была нами блокирована. Мы предложили сдаться, на. Получили категорический отказ, на. Ваш сын в перестрелке был нами убит, мля. Ничего не скажу – проявил мужество, можно сказать, пал смертью храбрых, на. Передайте всем,: всех, кто придет на землю Донбасса с оружием, ждет смерть, на. До свиданья.
Я перезвонил. Сладкий голос в трубке сообщил мне, что абонент временно недоступен.
Поначалу я был озадачен, что Алексей воевал совсем не на той стороне. Но поразмыслив немного, понял, что иначе и быть не могло. Ярослава потом вспоминала, что брат называл донбасских ополченцев «совками» и злился, когда заставал ее смотревшей российские теленовости. Телеведущего Киселева Алехан считал своим личным врагом.
Смерть человека – это лакмусовая бумажка, по которой можно судить о его жизни. Исчезновение Алехана осталось незамеченным для его друзей – никто не звонил, не интересовался. Думаю, у Алехана их просто не было. Причиной его одиночества был не только скверный характер. Алехан в друзьях не нуждался. Ему нужны были противники, а не единомышленники. С единомышленниками он скучал – согласное кивание головами не доставляло ему удовольствия. Ему органически необходимо было пребывать даже не в меньшинстве – в полном одиночестве, в изоляции, постоянно чувствовать враждебность и непонимание.
Наверное, каждый индивидуум в своем развитии должен дойти до логического конца – совершить то, что станет вершиной всей его жизни. Высшим проявлением протестной энергии моего шурина стала его собственная гибель. Он победил всех на этой войне – в том числе собственные страхи и свое нескладное тело.
Не скрою, отсутствие Алексея в нашей с Ярославой жизни было для меня куда более комфортным обстоятельством, нежели присутствие. Хотя, насколько я помню, смерти я ему, все-таки, не желал.
Вскоре после памятного чаепития в Павловске всегда здоровая и бодрая Ярослава слегла. Сомнений нет, это было нервное расстройство. «Психосоматика», — констатировал усатый и лысый, похожий на певца Розенбаума врач. Она не могла есть и слабела с каждым днем. В один из вечеров она была так плоха, что я по-настоящему испугался. Я сидел у ее постели и гладил ее ставшую полупрозрачной руку – еще полгода назад такая картина показалась бы мне архинеправдоподобной. Теперь же мне было страшно, что она умрет, и умрет из-за моих прежних тайных желаний. Я решил выбить клин клином. Я хотел противопоставить своим старым, уже забытым мной мыслям о ее смерти нечто совершенно противоположное. Я насиловал свое воображение, представляя наше совместное будущее. Ярослава в этих фантазиях была интеллигентной старухой, я – аккуратненьким старичком, мы сидели с ней в театре или в филармонии, гуляли в своем запущенном сиверском саду, хоронили девяностолетнюю Серафиму Аркадьевну, моего отца…
— Мы будем жить долго и счастливо, — повторял я, как мантру.
Не знаю, помогло ли все это, но через несколько дней она попросила бульона, а еще через день встала. Я заперся в ванной и плакал от счастья.
Не хотелось бы выглядеть циником, но гибель Алехана оказалась полезна для наших отношений. Во-первых, я остался единственным мужчиной в ближнем семейном круге Ярославы.
Ценность моя как представителя вымирающего вида возросла. Отец моей жены в расчет не принимался – он ушел к другой женщине, когда Ярославе было двенадцать, а Алексею — семь. Хотя своей первой семье Игнатий Петрович всячески помогал, полностью прощен за предательство он так и не был, и в космосе ярославиной жизни вращался где-то на дальних орбитах. После злополучного звонка жена стала относиться ко мне еще бережнее. Теща моя, Серафима Аркадьевна, не перестававшая оплакивать сына и одновременно надеяться на его возвращение живым и невредимым, вопреки моим опасениям, полюбила меня еще больше. То обстоятельство, что без вести пропал не я, а ее сын, а я продолжаю ходить по земле и есть ее фирменные пельмени, не сыграло отрицательной роли в наших взаимоотношениях. Серафима Аркадьевна даже стала находить, что мы с Алеханом были похожи. Я не спешил развеять это заблуждение. В чем-то она была права – уже хотя бы в том, что я был безработным. Впрочем, вопрос моего трудоустройства решился довольно скоро.
*******************************************************************************
Найти работу охранника труда не составило. В нашей стране это – пожалуй, самая распространенная мужская профессия. Огородив всё, что можно, глухими заборами, заперев все двери, мы все равно нуждаемся в охране – вернее, в ее видимости. Не доверяем никому – а пуще самим себе. Но вид прокуренного пенсионера в форме с надписью «Охрана» нас успокаивает.
Итак, я снова заступил на службу. «Охранял» въезд в бывшую промзону, где мелкие фирмочки с претенциозными названиями арендовали полуразрушенные производственные корпуса. До сих пор не понимаю, как этот заповедник советской действительности, где посреди потрескавшегося асфальта тянет руку в светлое будущее маленький гипсовый Ленин, до сих пор не освоили наши строительные монстры. Ведь «пятно» расположено почти в центре города — на Обводном канале. Разумеется, строительство здесь элитного жилья – лишь вопрос времени. Многокомнатные квартиры с саунами, вежливые консьержки, именитые соседи… Тогда я был точно уверен: обитать в подобном жилище буду точно не я.
На новой работе совершать тайные вылазки в Сиверскую не очень-то получалось. Впрочем, я начал уставать от конспирации и добровольного одиночества. Однажды я не без опаски пригласил туда Ярославу. Вопреки моим опасениям она была очарована старым захламленным домом и запущенным садом. Увидев ее стоящей в прямоугольнике распахнутого окна и смотрящей на аистов, устроивших себе гнездо на сломанной ветром ели, я испытал странное переживание. Как будто после тысячелетних скитаний по земле я нашел, наконец-то, свое место на ней. Я впервые почувствовал себя дома. Не удивлюсь, если этот модерновый особняк когда-то принадлежал моим пращурам – как будто их печальные тени благословляли меня жить в нем до самой смерти.
Мысль о возвращении хозяина дачи была мучительна. Мне хотелось, чтобы война в Донбассе шла как можно дольше. Я понимал, что это означает для тех, кто жил в Донецке, Луганске и других городах и весях, где на улицах рвались снаряды и валялись жуткие развороченные трупы. Но поделать с собой ничего не мог. Чтобы наша упоительная жизнь в Сиверской не прекращалась, война должна была продолжаться. Моё «я» снова раздваивалось. Одна половинка души жалела гибнущих людей, другая тихо радовалась превращению украинской смуты в бесконечный кровавый кошмар. Шизофрения, как и было сказано…
Впрочем, мне достаточно было лишь одной смерти. Призрак Алехана витал надо мной, когда я думал об этом.
Именно тогда, после первой совместной поездки с Ярославой в Сиверскую я стал проявлять интерес к той войне. Если бы у меня спросили, что вызывает столь пристальное внимание к происходящему на востоке Украины у такого аполитичного человека, я бы затруднился с ответом. Истинная причина моего интереса к украинской смуте поначалу была скрыта от меня самого. Просматривая выложенные в Сеть видеозаписи, сделанные обеими воюющими сторонами, я втайне от себя надеялся увидеть среди людей в камуфляже моего чудаковатого приятеля. Мне было важно знать – жив он или нет. Вернее, я бы хотел увидеть его мертвым.
Думаю, раздвоение сознания наблюдалось во время украинских событий не только у меня. Подозреваю, что это было массовое явление. Погружаясь в абсурд происходящего, я понял, что политика есть сильнейший патогенный фактор, провоцирующий развитие шизофрении у всякого добропорядочного обывателя, хоть немножко умеющего думать. Дьявольское смешение чувств и мыслей – вот к чему приводят попытки размышлять об этой войне. С одной стороны – как не испытать удовлетворение от возвращения в лоно империи райского полуострова, нахождение которого в составе государства-химеры выглядело чудовищной исторической несообразностью и вызывало ноющую боль в той области души великоросса, где гнездится его национальная гордость. О, Крым — это великое искушение! С другой стороны, блаженная Таврида была частью чужого государства, какой бы химерой это государство не выглядело. Так или иначе, мы ее хапнули. Конечно, не хапни мы ее, быть может, там брызнуло бы такой кровью, что донецко-луганская эпопея в сравнении с новой Крымской войной показалась бы мелкой заварушкой. Но история, как говорится, не знает сослагательного наклонения. А факт остается фактом: полуостров мы «отжали». И навсегда потеряли Украину.
С одной стороны были чувство омерзения при виде мордоворотов с татуированными свастиками и рунами СС, сочувствие восточноукраинским «совкам», как их называл Базилио… С другой – понимание, что всякий нормальный гражданин Украины по праву должен считать эту войну священной борьбой за целостность государства. Мы не отпустили чеченцев, так почему хотим, чтобы они отпустили донецких «сепаров»?
Переписываясь с Базилио, который изрядно горячился по поводу происходящего на востоке Украины, я мало-помалу стал соглашаться с его доводами.
— Конечно, государство Украина в современном его виде есть великое недоразумение, — написал он однажды. — Это лоскутное одеяло, которое было наскоро сшито большевиками из кусков бывшей Российской империи, и теперь эти куски висели на гнилых нитках. Но нам ли эти нитки рвать? Вот в чем вопрос.
Нет, чтобы сохранить рассудок в целости, нельзя всерьез интересоваться политикой. В крайнем случае, для душевного здоровья нужно выработать «позицию» — то есть принять за основу одну из многочисленных точек зрения на происходящее. Но у меня это никогда не получалось.
Впрочем, политические вопросы мучали меня куда меньше, нежели судьба владельца сиверского дома. Я желал ему быстрой и славной гибели на поле боя. Свое желание я оправдывал тем, что Витек сам всю жизнь заигрывал со смертью. Чем, как не тягой к саморазрушению были все его травки и грибы? Разве не проявлением фрейдовой воли-к-смерти была его страстная любовь к экстремальным развлечениям вроде залезания на высоковольтные столбы и сумасшедшей езды на мопеде? Алехан отрицал этот мир, а значит, отрицал и себя. Витек, напротив, слишком любил жизнь, и эта избыточная любовь должна была его погубить. Он был запрограммирован на стремление к смерти. Оба они – и Алехан, и Витек уехали на войну, чтобы там погибнуть.
Постепенно я перестал прятаться от себя самого. Человек, который ни во что не верит, со временем прекращает противоборство с собственной совестью – последним по-настоящему достойным противником. Он может сказать себе честно и прямо: «Да, мне нужна смерть этого человека. Пусть он умрет».
Ежедневные просмотры видеоновостей с востока Украины ни к каким результатам не приводили. Тело Витька в объективы не попадало. Я уныло готовился увидеть из окна нашего сиверского дома фигуру вернувшегося героя. Мои руки были готовы для лживых объятий, а язык – для лицемерных расспросов.
А впрочем, разве не обрадовался бы я ему, если бы он все-таки вернулся? Разве не почувствовал бы облегчение? Ведь он всегда был мне симпатичен, этот чудак…
Так или иначе, пока что хозяин не возвращался и дом был в нашем полном распоряжении. Ярослава провела в нем тотальную уборку и даже нашла где-то трезвого печника (почти вымершая профессия!), который вернул к жизни большую изразцовую печь и старинную плиту на кухне. Особым удовольствием было пить чай из древнего медного чайника, вычищенного мной до червонного сияния – этот чайник ставился на плиту, в которой толкался и гудел огонь – так же, как сто лет назад, когда этот дом пах свежим деревом и совсем другой жизнью.
*******************************************************************************
…От этих размышлений отвлек очередной звонок Вежливого. Он был столь любезен, что приехал со своей вечной улыбкой и очередной деликатной просьбой в Сиверскую.
По чугунной винтовой лестнице мы поднялись в башенку с витражными стрельчатыми окошками, где у меня был своего рода летний кабинет – ветхий ломберный столик, гнутый венский стул и скрипучий диванчик. Ежась от холода, Вежливый раскрыл передо мной номер «Российской газеты». Я прочитал заголовок: «Бесчинства в Нижней Крынке. ОБСЕ зафиксировало новые захоронения мирных жителей под Донецком».
«Пока найдены три захоронения, в одном из них лежат тела мирных жителей, их обнаружили уже около сорока… В целом картина везде похожа: признаки обезглавливания тел, сквозные пулевые ранения, отрубленные конечности», — прочитал я далее.
— Они внутренние органы вырезали у живых людей, — добавил Вежливый.
Потом он вынул планшет. Я увидел человека в резиновых сапогах, с опаской и отвращением ковырявшего граблями месиво из степного чернозема и почерневших кусков человеческих тел. У одного из убитых руки были связаны за спиной. Страшный запах ударил в ноздри – воображение разыгралось…
— Это настоящие, стопроцентные нацисты. Изуверы. Они сами этого не скрывают.
На экране замелькали руны, свастики в самых разных видах – на шевронах, касках, знаменах и – на коже в виде татуировок. Позируя перед камерой, два парубка прокричали: «Украина по-над усем!» и отточенным движением выбросили правые руки вверх.
Вслед за Филологом в мир иной должны были отойти сразу несколько злодеев. Матерые бандеровцы, ответственные за массовые убийства и пытки на отбитых у ополченцев территориях, лично ломавшие плоскозубцами пальцы пленным, вызывали сильные эмоции и самые искренние чувства…
Источник: http://interarma.ru/?page=andrey_boldin